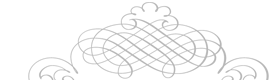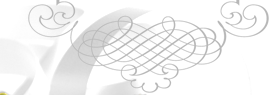Я... За последние двадцать лет главным образом не болела.
[...]
Внутри всякой биологической и социальной ситуации я свободна принимать решения. Тут нас всех многому научил комфортабельный ужас экзистенциалистов, для нас куда менее комфортабельный, чем для самих экзистенциалистов. И все-таки не всякий акт был мною осуществлен после сознательного и свободного решения: отъезд из России не был для меня следствием собственного решения, но выбор профессии (в десять лет) и невозвращение в Россию — несомненно им были. Следствием сознательного решения был мой неотъезд из Лонгшена в июне 1940 года, но никакое сознательное решение не привело меня к существованию в Париже в послевоенные годы — это была инерция. Я вижу на протяжении всей моей долгой жизни моменты свободного выбора и периоды инерции. И вся цепь пассивных следований за обстоятельствами и активных шагов, менявших ткань жизни, закончилась для меня самым важным, самым осмысленным и самым трудным сознательным выбором, который я когда-либо делала в жизни: уехать в США.
[...]
в американском консульстве в Париже от меня потребовали принести медицинское свидетельство.
Доктор попался с иронией:
— От чего умерли ваши родители?
— Мать, видимо, от истощения, холода и всяческих лишений, связанных с осадой Ленинграда немцами в 1941-1942 годах. А отец, я полагаю, от тоски.
— Чем болели?
— Они? Не помню, чтобы они вообще болели.
— Не они, а вы.
— Я... За последние двадцать лет главным образом не болела. Просто, бывали, кажется, иногда простуды. Такой, знаете, сильный насморк.
— Когда вы были в последний раз у доктора?
— Недавно. Пять лет тому назад.
[...]
Он ставит меня перед аппаратом рентгена и фотографирует мои легкие. Этот негатив в натуральную величину позже будет держать в обеих руках американский чиновник, разглядывая огромную клетку моих ребер, клетку, похожую на те, в которые сажают попугаев, и там в середине будет сидеть попугай, мое сердце, с темной аортой, похожей на гребень тропической птицы. Он будет и так и сяк любоваться этой фотографией, а я буду стоять и молчать, все время повторяя про себя: не узнаете? Странно! Ведь я та самая девочка, которой вы когда-то посылали посылки АРА.
[...]
Чиновник наконец кладет все мои документы на стол и трахает по ним печатью. За невозможностью произнести мою фамилию он решил воспользоваться одним именем, чтобы поздравить меня с приездом в США:
— Enjoy it, Nina! — сказал он, и я прошла сквозь дверь; была ли она открыта, полуоткрыта или плотно закрыта, я не помню. Я прошла сквозь нее.
Но до всего этого, до моего знакомства с таможенниками, консулами, докторами, пресс-атташе, крупными и мелкими чиновниками иммиграционного департамента, человеком, принимавшим мою клятву, и барышней, требовавшей подпись на всех четырех копиях какого-то документа, произошло еще очень многое. И прежде всего — произошел факт решения, факт выбора, и в те дни, когда я решала и выбирала, я чувствовала, что не просто бросаю в воздух монету — орел или решетка? — но пользуюсь свободой делать или строить свою жизнь, которую мне, в мире, где я живу, даровало мое время. Я пользуюсь своим правом, как воздухом, — оно мое, не завоевываю, не вымаливаю, не оплачиваю, но беру, как мне принадлежащее. Ответственность несу перед самой собой, не полагаясь на слепой случай, и в полном сознании делаю тот шаг, от которого зависит не то и не это во мне, а я сама. И не две, а целых три силы влияли на меня тогда в зеленых садах Трокадеро летом 1950 года, и, может быть, третья-то и была среди них — главной.
О двух первых я уже сказала. Да, невозможность дожить до конца месяца, неумение переменить профессию, как говорится, материально свести концы с концами в Париже после войны была одной из причин моего отъезда. Я за двадцать пять лет жизни в Европе привыкла к тому, что гвозди забиваются серебряными ложками по мудрому народному изречению. Я много лет была на это согласна, и в конце концов это стало казаться мне даже естественным. И теперь я нисколько не бунтовала против такого положения вещей, но это положение вещей, которое всегда было, выражаясь суконным языком, «неудовлетворительно», сейчас становилось совершенно угрожающим. Но вряд ли одна материальная безнадежность привела бы меня к решению моей судьбы. Была вторая причина: я оставалась одна или почти одна в том городе, где я четверть века прожила в дружбе, во вражде, в дружбе-вражде, в атмосфере, созданной (как я уже сказала однажды) десятком или двумя десятками людей, имевших дело с мыслью и музыкой русской поэзии со словом, с «нотой», с идеями и ритмами, которые культивировались — худо ли, хорошо ли — в духе некоего оркестра, где если не во всех нас, то в некоторых из нас (и во мне самой, конечно) силен был тот esprit de corps, который объединял нас, oтъединяя от других групп русского рассеяния. Как в оркестре, мы были лет пятнадцать все налицо. А сейчас не оставалось никого или почти никого, и впереди было небытие — личное и общее.
[...]
Я уезжала не только из Парижа, я уезжала из Петербурга-Ленинграда, из Венеции, из Рима, из Ниццы, из Прованса, из навсегда для меня драгоценного пейзажа лучистой, дымчатой деревенской Франции, которая теперь, когда я закрываю глаза, видится мне прежде, чем видится Париж, с ее дорогами, усаженными шумящими деревьями, с хлебными полями и покатыми лугами, с черепичными крышами, мирно дремлющими за холмом, и острой колокольней церкви, забытой, пустой, ненужной и все-таки прелестной, выстроенной тысячу лет тому назад, до Монтеня и до Сервантеса, как сказал бы Мережковский. Я уезжала навсегда из мест, где я училась искать не счастья, а интенсивности, не радостей и благополучия, а больше жизни, концентрированного чувства жизни, усиленного ощущения бытия, полноты и концентрации пульса, энергии, роста, цветения, вне зависимости от счастливого или несчастливого его образа. Здесь жизнь моя становилась все более и более не цепью вопросов, но цепью разрешения вопросов, где иррациональное, и сны, и вдохновение, и импульсы, имели свое место и были координированы со всем имманентным и ощутимым, знакомым моим пяти чувствам. В любом образе я искала его силу и непрерывность, cгyщенное чувство быть, жить, познавать, пережи-вать, помнить и меняться. Я училась этому в Европе и теперь этy Европу оставляла, унося с собой всё, что сумела взять oт нее, — малое и большое, важное и не очень важное, — и преждe всего убеждение, что уметь думать и в протяженности времени жить сознательной жизнью, узнавать себя и «делать» себя есть необходимое состояние человека, при котором его консервативным, ограниченным, косным инстинктам отводится второе место, а радикальной мыслительной способности, неограниченной и свободной, — первое из первых.
Эта свобода роста связана со всеми остальными свободами, которых хочет человек. Он хочет сам сажать свои деревья и сам же их рубить; он хочет, чтобы сын не отвечал за отца; он хочет громко крикнуть свой протест, он хочет сам сделать свой выбор и, когда ему нужно, быть «не как все», что доказывает не только его собственное здоровье, но и здоровье народа, из которого он вышел. Но свобода роста несет с собой еще и другое: освобождение от путаницы в мыслях и импульсивности мнений, несет интерпретацию мира и, наконец, умение познавать, судить и выражать себя. Огромную школу, где я научилась столь многому, я теперь оставляла, я переходила в новый, другой, неизвестный мир. Но страха не было.
Нет, страха не было. Было любопытство, известный азарт касательно будущего и желание по возможности разумно обставить самый отъезд. Между тем, с бытовой стороны дело обстояло довольно скверно: языка английского я не знала, денег у меня, по приезде в Нью-Йорк, оказалось 75 долларов, из которых 25 я тотчас же отдала (это был долг), и постоянную визу мне не дали: русская квота была заполнена и визу надо было ждать около пяти лет.
[...]
— Бросаешь всех петухов на всех чайниках, — сказала мне Вера Зайцева, прижимая меня к себе на вокзале, а я в это время видела все вокруг себя с такой ясностью, как князь Мышкин перед припадком: все оставляемое и все уже оставленное, и то, что впереди через три часа, и то, что впереди через неделю, через год и через два. И данную минуту — которая всегда важней всего — четырнадцать дорогих мне лиц на вокзальной платформе, и с каждым — длинная история отношений. Одному успеть шепнуть: не болей, не грусти (две заповеди дружбы), другого обнять, у третьего повиснуть на шее, четвертому и пятому сжать руки, и всем ответить на нежность и тепло. Вода понесет меня из одного полушария в другое, и ее я тоже больше не боюсь. Закат Европы — во мне самой, не в Европе, и во мне самой в этот миг — тысяча вещей: прошлое, настоящее, и такая ясность видимости — где не «все позволено», но «все возможно».
В эти минуты (или секунды) «мышкинской ясности» было ощущение шва всех противопо-ложностей: мое одиночество и принадлежность стоящим под окном драгоценным людям, молодым и старым; моя собственная страна, и та, в которой я прожила двадцать пять лет, и третья — куда я ехала. Рок, который нес меня, и мой сознательный выбор. И я сама перед лицом этого шва, такая, какую я знала и какую знали те, что стояли перед окном вагона, знали тридцать, двадцать, десять лет. И потом — редкий случай и тем самым мне милый — слезы, которые я не могла остановить до самого Гавра, так что русский господин, сидевший в купе напротив меня, участливо спросил (он узнал меня, и Б.К.Зайцева, и некоторых других из провожающих):
— Может быть, вам дать выпить стакан самой обыкновенной водички?
Эта самая обыкновенная водичка не имела на меня никакого действия, и я прекратила плач только тогда, когда увидела громадный белый пароход, густо-синий залив, лебедки в небе и величественную даль гигантского порта.
А потом были дельфины, сказка о двух лягушках и два великана — женского и мужского рода — за моим столиком, которые весь обед с тихой радостью, и восторгом, и сиянием глаз говорили, что наконец-то они опять у себя увидят такси. «Неужели в Европе они не видели такси?» — думала я. Но оказалось, что они говорили о Техасе, и это был мой первый урок английского языка. (Все, хорош, а то я так буду вынужден перепостить сюда всю книгу - курсив, кстати, мой, gr_s :)
------------------------->----------------------------
UPDATE. Наверное, стоит пояснить заголовок поста. В разное время там и сям мне попадались удивительные фрагменты текстов (практически никогда цельные тексты, именно вот что фрагменты, вкрапления), удивительные тем, что автор как будто "Мизеса начитался", хотя автор жил совершенно в другом пространстве-времени и ни о каких мизесах-шмизесах или там праксиологии-шмаксиологии слыхом не слыхивал. И что поразительно - этот не слыхивавший автор выражает при этом некие праксиологические максимы и австрийские положения с такой удивительной и убедительной ясностью, что читателя, знакомого с соответствующей литературой, охватывает, что называется, странное чувство. Не все из этих фрагментов у меня под рукой, да и помню я не про все, потому что некоторые фрагменты я читал до того, как узнал о существовании праксиологии, и теперь вспоминаю о них нетвердо. Но что помню и что легко найти буду выкладывать сюда под соотв. заголовками (тэги не люблю, не знаю почему).
|